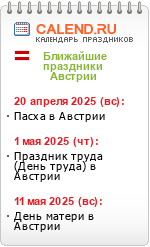- Новости Австрии
-
Energie Steiermark снижает цены на электричество и газ
20.04.2024
После происшествия самолет AUA подлежит ремонту
20.04.2024
Руководство по водороду для компаний Нижней Австрии
20.04.2024
Верхняя Австрия: Группа «Miba» продолжает расти
20.04.2024
Вена: Курсы немецкого языка для персонала детских садов
20.04.2024
Вена: Дунайской башне в этом году исполняется 60 лет
20.04.2024
Аукционы велосипедов в Клагенфурте и Филлахе
20.04.2024
Грац: «Вечеринка» десятого дня рождения «Arsonore»
20.04.2024
NÖ: Виноградари и садоводы трепещут перед морозами
20.04.2024
У производителей фруктов в Штирии тревога за урожай
20.04.2024
- Рекомендуем
- Погода в Австрии
-
Вена
Зальцбург

Инсбрук



- Рекомендуем
Зигмунд Фрейд Глава 5. Призвание
Опубликовано: 24.04.2008
Во второй половине девятнадцатого столетия в европейских лабораториях под невидимый аккомпанемент дыма, изрыгаемого трубами фабрик и заводов, создавались все новые знания. Большая часть открытий относилась к биологии и медицине. Люди стали считать человеческий организм неким подобием машины, в которой сжигается газ, циркулирует энергия и действуют те же законы природы, что и в локомотиве. В конце концов человек будет знать, а значит, и понимать все. Нет тайн, нет неразрешимых загадок – есть только отсутствие верной информации. Человеческое тело исследовали в живом и мертвом состоянии, особенно в мертвом, потому что лечить человека от болезней гораздо сложнее, чем разрезать его и посмотреть, что у него внутри. В Вене целые бригады врачей и студентов спешили в прозекторскую, пока трупы не остыли, чтобы подтвердить свои диагнозы. Карл Рокитанский, профессор патологической анатомии Венского университета, как утверждали, изучил сотню тысяч трупов. Эрнст Брюкке, профессор физиологии, советовал своим студентам рассматривать ткани в микроскоп и учил их, что “в организме действуют только обычные силы физики и химии”. Такова доктрина “позитивистской” школы, учеником которой был Зигмунд. Он узнал, что жизнь заключается в управлении этими нескончаемыми потоками энергии. В то же время появился дарвинизм, который объяснил, как эти биологические механизмы были созданы в процессе эволюции. И стар и млад исследовали птичьи крылья и кроличьи нервы (а при возможности – семенники угрей), чтобы увидеть, как работает эта великолепная задумка природы. Эрнст Вильгельм фон Брюкке (1819-1892) стал учителем Зигмунда. Он побуждал его к написанию научных работ, иногда выражал сдержанную похвалу и, как потом стали говорить, был для Фрейда чем-то вроде “образа отца”, когда этот фрейдовский термин завоевал популярность. Эта фигура была несколько пугающа – протестант с севера Германии, с рыжими волосами и опасной улыбкой, не терпевший слабых венских законов. Студенты ежились под его взглядом. Брюкке занимался со студентами в столь же мрачной обстановке – на старой военной фабрике. Посещение его занятий было обязательным. Фрейд занимался исследованиями и в других областях, но в 1876 году остановился именно на кафедре Брюкке. Там он сосредоточился на центральной нервной системе, и это определило основное направление его исследований. Со временем Фрейд стал заниматься неврологией, а позже – проблемными вопросами психологии. Фрейд пользовался расположением Брюкке, если кто-то мог пользоваться расположением этого человека, но учился преодолевая большие сложности. Главной проблемой была его бедность, а также национальность. В это просвещенное время средние классы пользовались уважением, но можно ли то же сказать о евреях среднего класса? Хотя в новой просвещенной Австрии было достаточно много еврейских врачей и ученых, они часто сталкивались с осложнениями, и чем выше они поднимались по академической лестнице, тем больше становились преграды. Как и многие другие представители поколения, Фрейд не был приверженцем иудаизма. Всю свою жизнь он был атеистом и занимался социальными и психологическими аспектами религии, которую считал следствием человеческого отчаяния и неврозов. Насколько религиозна была его семья, точно неизвестно. Некоторые исследователи утверждают, что родители Зигмунда были очень религиозными людьми; другие бросаются в другую крайность и считают их “просвещенными” евреями, распрощавшимися со всеми пережитками прошлого. Обе точки зрения маловероятны. Якоб относился к своей национальности с некоторой сентиментальностью. Амалия была старомодной галичанкой, хотя ее внучка (старшая дочь Фрейда Матильда, родившаяся в 1887 году) писала: “Не думаю, что вопросы религии ее очень волновали”. Она “небрежно” отмечала самые главные религиозные праздники и не придавала им особого значения. Очевидно, еще меньше значения придавал им восемнадцатилетний Зигмунд. В сентябре 1874 года, когда начался второй год его обучения в университете, он пишет Эдуарду Зидьберштейну о Рош Ашана, еврейском Новом годе. Фрейды отмечали этот праздник, и “даже атеист, семья которого, к счастью, не слишком благочестива, не может отказать себе в соблюдении этой традиции, поднося к губам новогоднее лакомство”. Зигмунд высмеивал еврейские праздники и их связь “между религией и желудком”. Пасха “способствует запорам, вызванным пресным тестом и крутыми яйцами”. Что же до Йом Киппура, Дня искупления, он так “печален не из-за гнева Божия, а из-за сливового джема и его действия на кишечник”. О приближении этого праздника он мог знать по “шуму двух умирающих рыбин и гусыни”, доносившемуся из кухни. Еще до окончания школы Фрейд понял, что значит быть евреем в нееврейской среде. Вена была самым антисемитским городом в Европе. Туда съезжалась еврейская беднота с востока, гонимая либо тяжелой жизнью, либо любопытством, и местные жители отнюдь не были от этого в восторге. Фрейд был обрезан, жил в Леопольдштадте, его родители приехали издалека. “Впервые я стал понимать, что значит принадлежать к чуждой расе, и антисемитские настроения среди остальных подсказали мне, что нужно занимать твердую позицию”. Это было написано уже в зрелом возрасте, как и его воспоминания о том, как он появился в университете и был разочарован, когда обнаружил, что “от меня ожидают, что я должен чувствовать себя ниже их, чужаком, поскольку я еврей. Я отказался унижаться”. Фрейд старался предотвратить проблемы где только мог. Он вступил в студенческое общество, выступавшее за политический союз с Германией (но позже никогда не упоминал об этом), чтобы отдалиться от наиболее ненавидимых евреев, выходцев из восточных провинций. Считалось, что еврей-уроженец Вены лучше готов к жизни – как в социальном, так и в академическом смысле. Фрейда отделяло от Галиции только одно поколение. Так считали не только евреи, но и все остальные. В университете лучше было не считаться одним из “Ostjuden”, восточных евреев. В июне 1875 года Фрейд познакомился со студентом, знавшим четыре языка и писавшим литературные эссе, и объявил, что он, без сомнения, “очень умен, но, к сожалению, польский еврей”. Если бы он заменил слово “польский” на менее неприятное “моравский”, он бы фактически говорил про самого себя. В молодости Зигмунд не раз замечал в поездах евреев, которые недостойно себя вели. Поезда представляли собой новую свободу. Кроме того, в них люди находились друг с другом в замкнутом пространстве, и им было нечего делать, кроме как наблюдать друг за другом. В сентябре 1872 года, за год до поступления в университет, возвращаясь в Вену из Фрейбурга, где он как раз влюбился в Гизелу, Фрейд столкнулся с еврейским семейством и решил, что их стоит описать Эмилю Флюсу. Они были из Моравии, и глава семьи говорил “таким же языком, какой я слышал от многих других, даже во Фрейбурге”. Фрейд не распространялся слишком много. Было достаточно сказать, что это были “не те” евреи. Сын был “слеплен из того теста, которое судьба использует для обманщиков: хитрый, лживый”. Из их разговора Зигмунд узнал, что “мадам еврейка и ее семья были родом из Мезерича [город на пути из Фрейбурга в Вену]; подходящая компостная куча для таких сорняков”. Подобная точка зрения не случайна. Ее можно назвать жизненно важной. Фрейд проучился в университете сравнительно недолго, когда один из тамошних светил, Теодор Бильрот, прогрессивный немецкий хирург и всесторонний человек (он к тому же писал музыку и был знаком с Брамсом), заявил, что слишком много евреев с востока – в частности, из Венгрии и Галиции – приезжает учиться на медиков в Вену. Он предложил ввести квоту, чтобы спасти университет от этих культурно недоразвитых иммигрантов, которые, “даже если говорят и думают на более богатом немецком языке, чем многие чистокровные тевтонцы”, не могут считаться настоящими немцами. Шестьдесят лет спустя выводы Бильрота получили бы более теплый прием в Берлине. Он много думал над этой проблемой и не смог не признать, что “между чистой немецкой и еврейской кровью – огромная разница”. До нас не дошло, говорили ли что-нибудь подобное другие профессора Фрейда, да и сам Бильрот впоследствии взял свои слова обратно, потому что это вызвало студенческие бунты, во время которых евреев выгоняли из лекционных залов и били*. Еврейские члены радикального студенческого общества, похоже, всеми силами поддерживали Бильрота. Фрейд об этом эпизоде никогда не упоминал.
* Студенты кричали “Долой евреев!” Они все еще кричали это в Венском медицинском университете перед второй мировой войной, “а пос�ь. е увидел. Именнла в строгости в Вене со своей матерью-вдовой, сестрой Минной и братом Эли. Ее семья принадлежала к евреям-ортодоксам. Их семьи дружили, возможно, через дочерей – это еще один намек на то, что Фрейды не забыли свое еврейское прошлое. Впервые Зигмунд увидел Марту, придя однажды вечером домой и застав ее и, возможно, ее сестру за столом с его семьей. Поскольку семья Марты придерживалась строгой религиозной диеты, вероятно, Фрейды тоже соблюдали ее. Марта чистила яблоко. Зигмунд влюбился в нее с первого взгляда (по крайней мере, так рассказывают). В ее семье были ученые, и, возможно, это тоже нравилось человеку, у которого не было настоящей научной родословной. Бернейсы были более развитой семьей как в социальном, так и в интеллектуальном плане. Дедушка Марты по отцовской линии, Исаак Бернейс, был главным раввином Гамбурга. Двое из его сыновей стали достойными преподавателями университета, но третий сын нарушил традицию. Это был отец Марты, Берман, которого оптимистически называли “торговцем”. Он переехал в Вену в 1869 году с женой и тремя детьми. Там он прожил в стесненных обстоятельствах десять лет, а потом умер на улице от сердечного приступа как раз перед Рождеством 1879 года. Марта и Зигмунд встретились спустя два года. “Свежая” и “милая” – вот какой он ее увидел. Именно эти качества должен был искать в женщине мужчина. Вскоре он уже присылал ей каждый день красную розу. Они гуляли вместе, посещали красивые места в округе, в том числе Гринцинг под Каленбергом. Она испекла ему пирог, а он прислал ей “Давида Копперфильда”. Они пожали друг другу руки под столом, а 15 июня Зигмунд написал свое первое любовное письмо. “Вы так изменили мою жизнь”, – писал он, добавив, как прекрасно было у нее в гостях. Эли на минуту оставил их одних, но Зигмунд сдержался и не стал подчиняться искушению. То, что он хотел сделать – обнять ее, поцеловать, – было бы “низко по отношению к гостеприимству и радушию этого дома, и я не сделал бы ничего низкого возле вас”. Через два дня он тайно сделал ей предложение и получил тайное согласие. Религиозные наклонности семьи Бернейсов едва ли нравились Фрейду больше, чем им мог понравиться атеист. По субботам Марта вынуждена была прятаться в саду, чтобы писать ему письма. Позднее он старался убедить ее не поститься в День искупления, потому что она и так слишком худа. Возможно, ему было приятно спасти эту послушную и понятливуСразу же после поездки в Гамбург он устраивается в общую венскую больницу врачом и начинает зарабатывать деньги. Клиническая медицина была выходом из состояния бедности. Он не сразу отказался от исследований и продолжал проводить опыты в лаборатории Брюкке. Больница стада новым хомутом, который Фрейд надел себе на шею. Мрачные палаты, нехватка сестер (многие пациенты принимали лекарства сами), старания старших врачей сделать жизнь младших такой же тяжелой, какой она была у них самих. Один из начальников Фрейда радостно сообщил ему, что когда-то его обед состоял из двух яиц вкрутую. Фрейда это не очень удивило. Он и так с иронической гордостью сообщал Марте, что потратил шесть пенсов на сигары или два пенса на шоколад. Несколько месяцев он вообще не получал никакой зарплаты, а когда получил, сумма оказалась крайне незначительной. Он держался на плаву, одалживая деньги у Флейшля и Панета, которые оба имели частные источники дохода. Он называл это “паразитическим существованием”. К тому же у него был Брейер, по-отечески предлагавший ему деньги взаймы, горячие обеды и даже ванну. В жаркую погоду он действительно позволял ему пользоваться своей ванной с водопроводом – это было роскошью в городе, где даже люди с приличным достатком заказывали себе чаны нагретой воды, которые им приносили на дом, или нанимали комнату в ближайшей бане. Фрейд описал ванную Брейера Марте и сказал, что у них тоже будет такая “и неважно, сколько на это понадобится лет”. Брейер был уважаемым человеком, довольно властным, но дружелюбным. Его лысеющая голова была похожа на птичье яйцо�астная дочь богатых родителей, которую мучили видения и кошмары. Метод лечения Брейера заключался в основном в том, чтобы дать ей выговориться. Этот несколько театральный случай в настоящее время вызывает сомнения исследователей, но тем не менее считается важным в истории развития психоанализа. Это легенда, от которой нельзя отказаться. В литературе эта пациентка носит имя Анна О. Позже мы остановимся на ней более подробно. Отношения Фрейда с Мартой по-прежнему были сопряжены с трудностями. После его поездки в Гамбург в июле 1882 года она с матерью вернулась в сентябре в Вену. Она пробыла там всего месяц, когда госпожа Бернейс объявила, что в 1883 году они переезжают в Гамбург навсегда. На Рождество Зигмунд и Марта официально сообщили о своей помолвке. Госпожа Бернейс не была в восторге. Эта новость, если ее можно было считать новостью после полугода тайной переписки и встреч, не повлияла на ее решение, и в июне 1883 года семейство Бернейсов покинуло Вену. Зигмунд остался и мог выражать свой гнев только на расстоянии. Он выместил досаду на Марте, обвинив ее в малодушии и угрожая прервать переписку. А в таком случае “мое бурное и жаждущее сердце разорвется”. Все его любовные письма содержат самые точные сведения о его внутреннем мире. Он пишет не только о Марте, но и о загадках природы, и о своей ненависти к бедности, и о презрении к серой человеческой массе. Оставаться ли им после женитьбы в Австрии? Его беспокоила мысль о могиле на центральном кладбище. Ему неожиданно стало приятно английское “трезвое трудолюбие”. Начав сомневаться в чувствах Марты, он утли в свое удовольствие, но было достаточно и таких людей, как Фрейд. Все это время он беспокоится о приличиях. Он запретил Марте оставаться у подруги, которая “вышла замуж до свадьбы”, что было совершенно непростительно. Он не позволял ей кататься на коньках, если была вероятность, что она будет кататься держа за руку мужчину. Подарив ей “Дон Кихота”, он решил, что зашел слишком далеко. “Ты совершенно права, моя принцесса, – пишет он, – это чтение не для девушек”. Он забыл, “когда отсылал ее тебе, что там много грубых и отвратительных мест”. Фрейд-психоаналитик сказал бы, что не существует невинного “забыл”. Если он подарил ей эту книгу, значит, он хотел, чтобы она ее прочитала. С госпожой Бернейс у него были натянутые отношения, перераставшие иногда даже в откровенную вражду. Она была догматичной и умной женщиной из скандинавской семьи. Она любила продемонстрировать свое превосходство над людьми и не собиралась отдавать дочь этому атеисту без борьбы. С другой стороны, она понимала, что Фрейд, невзирая на происхождение, очень неординарный человек. Он не ладил и с Эли Бернейсом, начинающим бизнесменом. Фрейд не очень-то одобрял его прожекты, а женитьба Эли на старшей из его сестер Анне в октябре 1883 года усугубила положение. В Гамбурге состоялась традиционная еврейская свадьба, но Фрейд на нее не поехал. В его письмах, очень интроспективных, виден образ человека, сжигаемого тайным огнем. “Я едва сдерживаю в себе дикие порывы”, – говорит он Марте в одном письме; “во мне заключены всевозможные дьяволы, которые не могут вырваться на свободу и делают меня неистовым и страстным”. Он добавляет, что если бы ему удалось найти объект приложения усилий, где он мог бы “рискнуть и победить”, он стал бы спокойнее, но вместо этого он “вынужден (и тут просто слышно, как ручка с досадой втыкается в бумагу) умерять и контролировать себя”. Мир разочаровывал его. Человечество тоже не возрождало в нем веры. Когда Марта описала ярмарку в Гамбурге и толпы народа на ней, в ответ он послал ей целую проповедь о печальном спектакле бездумной бедноты “с толстой шкурой и легкомысленными привычками”, которая пользуется моментом удовольствия, потому что ей больше нечего ждать. “Бедные слишком беспомощны, слишком беззащитны, чтобы вести себя подобно нам”. Так что он выводит, что существует “психология простого человека, которая значительно отличается от нашей”. Фрейд пишет об аскетичных “Мы”, которые не могут быть подобными бездумным “Им”, и в то же время как бы занимает позицию стороннего наблюдателя. Его “дьяволы” никуда не исчезли, а только получили новое название – “природные инстинкты”. Признание того, что “неудовольствие” – это обратная сторона “удовольствия”, указало на конфликт между желанием и потребностью подавлять его, на котором построена вся его психологическая система. Толпа удовлетворяет свои аппетиты, а мы лишаем себя этого. Мы ограничиваем себя, чтобы сохранить целостность, мы сохраняем здоровье, способность к наслаждению, эмоции. Мы сохраняем себя для какой-то неизвестной нам цели. И эта привычка постоянно подавлять в себе природные инстинкты делает нас более утонченными. Наши чувства более глубоки, и поэтому мы не требуем от себя слишком многого. Почему мы не напиваемся допьяна? Потому что неудобство и унижение последствий дают нам больше “неудовольствия”, чем удовольствия, которое мы получим, употребляя спиртное. Почему мы не влюбляемся в нового человека каждый месяц? Потому что при каждом расставании мы лишались бы части нашего сердца. Почему мы не делаем своими друзьями всех? Потому что потеря друга или несчастье, которое с ним может произойти, очень сильно скажется на нас. Поэтому мы скорее стремимся избежать боли, чем получить удовольствие. Фрейд умел рассуждать, но мог и наблюдать. В 1883 году коллега по больнице Натан Вейс повесился в публичной бане десять дней спустя после возвращен�е нее, конечно”, как пишет еврейский писатель Эммануил Райс, “там не осталось евреев, которым можно было это кричать”. “Дурная кровь”, которая передается из поколения в поколение, имела силу научного диагноза. У этого диагноза был национальный подтекст: евреев обвиняли в умственной нестабильности. Одна из причин, по которой Фрейд начал поиск корней невроза в детстве человека, а не в его наследственности, возможно, была вызвана его стремлением доказать, что у евреев и у неевреев одни и те же психологические механизмы. В молодости он считал, что со стороны Якоба унаследовал “дурную кровь”. Семья, за которой он наблюдал, была “лживой” и склонной к совершению преступлений. Его замечание о том, что они могут быть обманщиками, напоминает о дяде Иосифе, фальшивомонетчике, скромном семейном скелете в шкафу. Семья еще одного брата Якоба, Абрама, который жил в Бреслау и произвел на свет слабоумных детей, в глазах Фрейда тоже была подозрительна. Он з�е” – это обратная сторона “удовольствия”, указало на конфликт между желанием и потребностью подавлять его, на котором построена вся его психологическая система. Толпа удовлетворяет свои аппетиты, а мы лишаем себя этого. Мы ограничиваем себя, чтобы сохранить целостность, мы сохраняем здоровье, способность к наслаждению, эмоции. Мы сохраняем себя для какой-то неизвестной нам цели. И эта привычка постоянно подавлять в себе природные инстинкты делает нас более утонченными. Наши чувства более глубоки, и поэтому мы не требуем от себя слишком многого. Почему мы не напиваемся допьяна? Потому что неудобство и унижение последствий дают нам больше “неудовольствия”, чем удовольствия, которое мы получим, употребляя спиртное. Почему мы не влюбляемся в нового человека каждый месяц? Потому что при каждом расставании мы лишались бы части нашего сердца. Почему мы не делаем своими друзьями всех? Потому что потеря друга или несчастье, которое с ним может произойти, очень сильно скажется на нас. Поэтому мы скорее стремимся избежать боли, чем получить удовольствие. Фрейд умел рассуждать, но мог и наблюдать. В 1883 году коллега по больнице Натан Вейс повесился в публичной бане десять дней спустя после возвращения с молодой женой с медового месяца. Вейс, невролог, был приват-доцентом, неоплачиваемым университетским лектором. Этот этап был обязательным для любого врача, который хочет иметь частную практику. Фрейд вернулся с похорон, размышляя об умершем. Это был беспокойный и эгоцентричный человек, сын жестокого отца, тесно связанный с больницей, называвший себя “скомпрометированный центральный европеец”. Он напоминал Брейеру (по словам Фрейда) историю о еврее, который спрашивает у сына: “Кем ты хочешь стать?” и слышит ответ: “Купоросом. Он проедает все”. Вейс насильно добился руки женщины, которая его не любила, и вернулся после медового месяца несчастным. “Я думаю, что он слишком рано отбросил сдержанность, и физическое отвращение и моральное осуждение быстро уничтожили все теплые чувства в девушке, которая оставалась холодной и стыдливой”. Люди обвиняли вдову. А Фрейд с ними не соглашался: Я считаю, что осознание огромного неуспеха, гнев, вызванный отвергнутой страстью, ярость от того, что он принес всю научную карьеру, всю судьбу в жертву неудавшейся семье, возможно, и раздражение от того, что он не получит обещанное приданое, а также неспособность обратиться к людям и признаться во всем этом – я думаю, что именно это после нескольких сцен, открывших ему истинное положение вещей, привело безумного в своем тщеславии человека (а он в любом случае был склонен к сильному эмоциональному возбуждению) к пределу отчаяния. Он умер из-за собственного характера. На могиле человек, говоривший от имени семьи Вейса, выступал “с жаром дикого и беспощадного еврея” и публично заявил, что семья вдовы – убийцы. Смерть Вейса, писал Фрейд, была подобна его жизни: “по особому плану; просто просится под перо романиста, чтобы сохраниться в памяти человечества”. Во Фрейде всегда скрывался писатель.